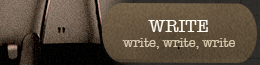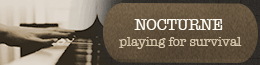Всё-таки люди были куда более сложным инутрментом, чем фортепиано, и София ни черта в них не разбиралась. Будь то по юности лет, или из-за разницы, которая пролегла между ней, всем её социальным классом, и миром четы О'Доннелл. София слушала, воображая себе такие стандарты по совершенству, что к людям начинаешь относиться как к проектам, или как к музыкантам в оркесте, которых талантливый дирижёр может вышколить, направить, заставить звучать безукоризненно, вступать идеально вовремя, правильно дышать, правильно моргать. Только не на время концерта, а на всю жизнь. Да, вероятно, такой человек мог быть одинок, если изъяны людей мешали ему воспринимать их равными или доверять им, подпускать их близко к себе. И ещё неизвестно, как бы он оценил таланты Софии, если бы увидел её здесь, в скромном платье, с неловкими манерами, и слышал, как она вторгалась в личную жизнь его семьи слишком прямыми вопросами. Его жена утверждала, что он оценил бы усердие и талант, но если мистер О'Доннелл требовал совершенства во всём, то можно было только гадать, какой в его глазах была соврешенная пианистка.
Именно такого осуждения — за то, что не во всём она достигла того же виртозного уровня, как в музыке, — София опасалась, когда ехала на Лонг-Айленд. И именно эти недостатки в собственном совершенстве заставляли её чувствовать себя неуместно в роскошном интерьере и рафинированном обществе. Вот только мисс О'Доннелл принимала её ровно такой, какой София Коэн явилась к ней на порог, и ни секунды не осуждала этих недостатков. Часть из них даже вызвалась исправить, пусть лишь для званого вечера. И тем самым человечным, благородным отношением Рут О'Доннелл в самом деле не была равной своему покойному супругу — она успешно его превосходила.
Ничего из этого София не сказала вслух, она только немного хмурилась, и была рада сменить тему, чтобы не портить свои отношения с мистером О'Доннеллом. Если его портрет висит в комнате со Стейнвеем, ей предстоит работать под его придирчивым взглядом несколько дней к ряду, они ещё успеют раззнакомиться.
Сделав ещё глоток чая, чтобы запить художественное пирожное, София собралась с мыслями.
— Моим главным учителем была моя матушка, — начала она, и этот рассказ был далеко не таким отрепетированным, как общие сведения о её иммиграции в Штаты, как побег от погромов, — Она была учительницей фортепиано. До того самого дня, как я родилась. И потом, после моего рождения, когда врач разрешил ей вставать, она возобновила занятия на следующий же день. Отец работал и нам хватало на тихую жизнь, но уже тогда они понимали, что время неспокойное, обстоятельства могут измениться в любой момент, и откладывали, сколько могли. Мама принимала учеников дома, так и проводила занятия, со мной на руках.
Ничего из этого София не помнила слишком отчётливо, детсво сгорело в подожённом доме, но она помнила музыку, которая была в её жизни всегда, вместо нянечки. И Ривка, уже переехав в Нью-Йорк, часто вспоминала те времена, когда надежда ещё теплилась.
— Мне рассказывали, я потянулась к клавишам раньше, чем начала говорить. Они даже беспокоились, почему я не говорю так долго, показывали меня врачам. Вероятно, язык музыки был мне понятнее, — теперь пришла очередь Софии смотреть в огонь, как там плясали языки пламени и тени её прошлого, — Мама сразу заметила, конечно. Обучила меня азам, поощряла. А потом, она рассказывала, был случай. Мне было четыре года, на время её занятия с учеником меня оставили на ковре в той же комнате. Мальчику никак не давалась "К Элизе" дальше вступления, мама билась с ним целый час. Потом пошла проводить его. Возвращается — а я играю "К Элизе" без нот, ноты-то мальчик забрал с собой. И без его ошибок. С тех пор помимо своих учеников, она занималась со мной ещё по три часа в день, научила нотной грамоте и всему остальному.
София не знала, как именно она делает то, что делала. Она не умела ничего другого. Так работала её голова, её пальцы, её сердце. Она слышала фальш и инстинктивно "знала", которая нота должна последовать за предыдущей, и которую можно изменить, а которая якорем держит всё произведение. Это знали её кости, её мышцы, это было какой-то естественной частью восприятия мира. Каждая новая мелодия без труда находила своё место в её голове и в кратчайшие сроки оставляла свой оттиск как будто внутри черепа Софии, так, что забыть её было очень трудно.
— К шести годам я могла записать ноты произведения на слух, даже если никогда не слышала его раньше, — София вернула свой взгляд хозяйке и та могла видеть, что её юная собеседница не хвастается, а сообщает сухой факт о себе, как рост или размер обуви, или склонность к простудам весной, — Но тогда же обстановка в Варшаве стала такой тревожной, что у меня не могло быть других регулярных учителей, и мечты о консерватории пришлось отложить. Когда мы переехали сюда, миссис Вайс вскоре купила подержаное фортепиано для своего пансиона, и я занималась там. До сих пор занимаюсь.
Теперь София улыбнулась — пансион был странным домом, где постоянно мелькали чужие люди, но всё же он был домом, и старенькое пианино было таким же членом семьи, ещё одной нянечкой, которое сделало Софию тем, что она есть.
— Пока мама была жива, он продолжала поощрять мои занятия, но она всегда довольно много болела... Моё рождение, исчезновение моего отца, переезд за океан — всё это очень подорвало её здоровье. Она была очень хрупкая женщина. Мне кажется, она жила за счёт музыки более, чем за счёт еды или питья. После её смерти, ко мне время от времени приходили учителя — из школы, из числа соседей или наших постояльцев. Но, признаться, лучше всего я училась сама. Могла заниматься целыми днями, если никто из наших гостей не просил пощады. Но и тогда я могла сбежать в школу или в синагогу и попроситься поиграть там. А с недавних пор есть ещё мистер Айзек, я иногда покупаю у него ноты. Он очень мало говорит о себе, но я почти уверена, что в прошлом он был музыкантом или дирижёром. Очень тонко чувствует музыку и даёт мне ценные подсказки. Приговаривает, что я должна всеми силами избежать судьбу сестры Моцарта.
Отредактировано Sophia Cohen (2025-08-06 00:57:36)