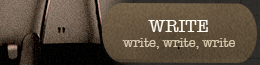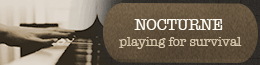Рут с легкой, едва заметной улыбкой наблюдала за своей гостьей. Она отметила все: и то, как девушка напряженно присела на самый краешек дивана, словно боясь оставить на дорогой обивке след; и вежливый, заученный комплимент погоде, за которым скрывалось должное почтение к хозяйке дома; и то, как тонкие пальцы чуть дрогнули, принимая фарфоровую чашку. В этом была трогательная смесь робости и попытки сохранить самообладание, которая показалась Рут по-своему очаровательной.
Но затем девушка положила на стол свою потертую папку, и вся ее робость словно испарилась, уступив место деловой сосредоточенности. Она перешла сразу к делу, и эта прямота, столь необычная для светских бесед, где принято было часами ходить вокруг да около, застала Рут врасплох и, к ее собственному удивлению, вызвала не раздражение, а интерес. Эта девушка пришла не тратить время на пустые любезности. Она пришла работать.
София Коэн была не такой, как она ожидала. Не робкой мышкой из пансиона, не восторженной провинциалкой, дрожащей перед богатым особняком. В ней чувствовалась спокойная уверенность, словно она уже знала себе цену, несмотря на юный возраст и скромное платье.
Кофе подали в тонком фарфоре с золотой каймой. Рут взяла свою чашку, позволив аромату обволакивать ее перед первым глотком. Она не торопилась. Ее взгляд скользнул по списку произведений, который София выложила на стол перед ней.
— Как интересно, — прошептала она, слегка наклонив голову.
Бах, Шопен, Лист, Дебюсси… Хороший выбор, но предсказуемый. Однако в конце списка мелькнуло имя, которое заставило ее брови чуть приподняться.
— Скрябин? — Рут подалась вперед и коснулась пальцем строчки. — Вы играете Скрябина?
Ее голос прозвучал мягко, но в нем явно читалось любопытство. Это был не самый популярный композитор в светских салонах, особенно среди тех, кто привык к более удобной музыке.
Она откинулась на спинку дивана, изучая реакцию девушки.
— Я обожаю его "Поэму экстаза". — Рут улыбнулась, и в этот момент в ее глазах вспыхнул настоящий, живой интерес. — Но это бы был довольно смелый выбор для приема. Боюсь мои гости могут не оценить.
Пальцы Рут медленно постукивали по деревянному подлокотнику — не от нетерпения, а от предвкушения. Она уже почти решила, что возьмет Софию на вечер. Но ей хотелось убедиться, что та понимает, куда попадает.
Вопрос, который задала София — «У вас уже есть представление о том, как он должен звучать?» — окончательно убедил Рут, что перед ней не просто исполнительница. Это был вопрос художника. Большинство музыкантов, которых нанимала Рут, просто спрашивали, когда и что играть. Эта же девушка предлагала стать соавтором вечера.
Зеленые глаза миссис О'Доннелл изучали лицо гостьи с новым, более глубоким вниманием. Ее первоначальное предположение о «жемчужине вечера» начинало обретать вполне реальные очертания.
— Это очень правильный вопрос, мисс Коэн, — медленно произнесла Рут, ее голос оставался мягким, но в нем появились стальные нотки. — Этот вечер — не просто прием. Это дань памяти моему покойному супругу. Поэтому музыка не должна быть ни траурной, ни, боже упаси, легкомысленной. Я представляю себе нечто… исполненное достоинства. Возможно, светлая печаль, но обязательно — с надеждой в финале. Звучание, которое заставит людей не скорбеть, а вспоминать с теплотой и уважением моего ушедшего, так рано, Олли.
Она сделала паузу. Рут видела, как внимательно слушает ее девушка, как в ее темных глазах отражается работа мысли. София не просто слушала — она уже слышала эту музыку у себя в голове. Рут была в этом уверена.
— Впрочем, слова — это всего лишь слова, — Рут грациозно поднялась со своего места. — Возможно, вместо того, чтобы рассказывать мне, что вы можете сыграть… вы просто покажете мне? Рояль в соседней комнате. Прошу вас.
Она поднялась первой, легко, будто не было на ней ни капли забот. А между тем, за этой легкостью прятался долгий путь — путь через смерть супруга, через год скорби и одиночества, через необходимость выстроить себя заново. У неё была цель. И эта цель теперь стояла в этой комнате, с папкой нот и сердцем, стучащим слишком громко.
Рут провела девушку через высокие распашные двери в салон, примыкающий к гостиной. Тут царила гармония цвета и форм. Изящные резные стулья, обитые шелком, под стать им шелковые обои на стенах, с высокого потолка опускалась прозрачная хрустальная люстра, в чьих каплях играло солнце, залившее все пространство комнаты ярким утренним светом. Посреди этой красоты стоял он - главный гость - рояль.
Хозяйка дома первой подошла к инструменту. Рояль сверкал полированной черной поверхностью, как зеркало, в котором можно было увидеть прошлое. Это был Steinway, Олливер выбрал его лично когда они обставляли дом. Она почти не касалась клавиш за последний год. Слишком много в нём было воспоминаний. Но именно этот рояль, именно эти клавиши, казались ей теперь подходящими — для начала чего-то нового.
Она повернулась к Софии и слегка кивнула, словно давая разрешение — или приглашение. И отошла в сторону, чтобы сесть в кресло у окна.
Рут скрестила ноги, руки сложила на коленях. Глаза её были спокойны. Но в глубине этих глаз жило что-то большее. Внимание. Надежда. Тень памяти. И предчувствие: музыка сейчас скажет ей больше, чем София успела бы рассказать за целый день болтовни.