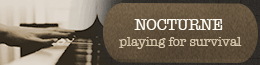Арон вёл машину, и весеннее солнце, такое яркое и тёплое для середины мая, казалось злой насмешкой. Оно заливало улицы Нью-Йорка светом, отражалось от витрин и хромированных деталей встречных автомобилей, заставляя мир выглядеть до тошноты живым и беззаботным. Но в голове у Клейна стоял густой, серый мрак.
Сегодня. Всего несколько часов назад он сидел в прокуренной комнате на конспиративной квартире, слушая, как один из информаторов Ротштейна докладывает по телефону боссу. Голос в трубке звучит уверенно: «Он будет действовать сегодня, мистер Ротштейн. После заката. Все его приготовления указывают на это».
После заката. А сейчас едва перевалило за полдень. Приказ Николая, сухой и лишённый каких-либо эмоций (будто он не был к смерти ближе, чем когда-либо): «Всем основным быть у меня в четыре. Без опозданий». Не «Арон, подготовь ребят», не «Арон, проверь подходы», а простое, безличное «всем». Арон оказался низведён до уровня рядового бойца, одного из многих. И он знал, почему.
Доверие, заработанное годами верной службы, рассыпалось в пыль.
Мысль билась в его висках в такт с рокотом мотора. Доверие, которое он выстраивал годами, кирпичик за кирпичиком, преданностью, риском, бессонными ночами и грязной работой. То самое доверие, которое было его главным капиталом, его бронёй, его смыслом существования в этом мире. Он не был просто «сотрудником», он был человеком Ротштейна. И София, одним своим отчаянным, смелым и таким катастрофически наивным ходом в кабинете босса, превратила этот гранитный фундамент в горстку пыли.
Она выторговала ему свободу. Горькую, ядовитую свободу, которая на вкус была как поражение. Она показала Ротштейну — человеку, который не прощал и тени сомнения, — что его доверенный помощник мечтает о «домике у моря». Что у него есть слабость. Что он уязвим.
И теперь он, Арон Клейн, ехал не на важную встречу по подготовке к устранению угрозы номер один. Он ехал учить свою девушку стрелять. Арон должен был быть рядом с боссом, планировать засаду, координировать людей, доказывать свою лояльность, пока она ещё хоть чего-то стоила. Вместо этого у него было всего два часа, чтобы превратить пианистку в стрелка. А в четыре он должен явиться к Ротштейну, как провинившийся школьник, зная, что за ним всё это время следил Манфред, который, без сомнения, уже доложил, куда и зачем поехал Клейн.
«Мистер Ротштейн, Клейн поехал в доки. Учить свою девицу обращаться с оружием».
Как это выглядело со стороны? Это выглядело как подготовка к бегству. Или, что ещё хуже, как подготовка к войне. Он вёз её в это грязное, забытое Б-Б-м место, чтобы посвятить в ту часть своей жизни, от которой хотел оградить. Не потому, что это было правильно, а потому, что у него не осталось выбора. Она была права: он не мог быть с ней каждую секунду. А в мире, где доверие Ротштейна к нему испарилось, Арон сам мог стать мишенью в любую минуту. И тогда она останется одна.
Он свернул на улицу, где располагался пансион Мирель. Солнце здесь казалось мягче, оно играло в молодой листве деревьев, отбрасывая на тротуар кружевные тени. Идеальный день для прогулки в парке. Для того, чтобы кормить уток. Но он приехал за ней совершенно по другому поводу.
Арон припарковался, не сигналя, и стал ждать. На пассажирском сиденье лежал небольшой, тяжёлый свёрток, обёрнутый в промасленную ткань. Дерринджер. Маленький, изящный и абсолютно смертоносный. Подарок по случаю примирения.
Через минуту дверь пансиона открылась, и на крыльцо вышла София. Арон вышел из машины и открыл ей дверь, улыбнулся, сказал, что она очаровательна и еще что-то глупое, о чем теперь и не вспомнит.
Она села в машину, принеся с собой лёгкий запах фиалок и чего-то сладкого.
— Ехать недолго. - Он тронулся с места, резко вывернув руль. Машина понеслась прочь от тихого квартала. Арон вёл быстро, агрессивно, лавируя в потоке. Ему нужно было выплеснуть напряжение, и он делал это через давление на педаль газа. Клейн чувствовал её взгляд на себе, но упорно смотрел на дорогу.
Они покинули жилые районы, проехали через гудящий деловой центр и углубились в лабиринт улиц, ведущих к реке. Величественные фасады Манхэттена сменились приземистыми кирпичными постройками, дымящими трубами и бесконечными заборами. Воздух стал другим. Солнце всё ещё светило, но теперь его лучи тонули в пыли, висевшей над промышленной зоной. Запахло рыбой, солью и углём.
Арон свернул с мощёной дороги на разбитый просёлок, идущий параллельно пирсам. Здесь стояли гигантские скелеты заброшенных складов, чьи выбитые окна напоминали пустые глазницы. Крики чаек смешивались со скрипом ржавого металла и далёкими гудками буксиров на Гудзоне. Это было место, где город умирал, место, где можно было кричать, стрелять или прятать труп — никто бы не обратил внимания.
Он завёл машину в тень одного из таких гигантов, проехав в широкие, распахнутые ворота, и заглушил мотор. Внезапно наступившая тишина оглушила. Пылинки танцевали в единственном луче света, пробивавшемся сквозь дыру в крыше.
Арон сидел неподвижно, вцепившись в руль. Время поджимало. Скоро три часа. У них был в лучшем случае час.
— Ты уверена, что хочешь этого, Соня? — его голос в гулкой тишине склада стал эхом.
Он не смотрел на неё, перевёл взгляд на свёрток, лежавший между ними.
— Это не игрушка. И это не кино. Если тебе когда-то придется по-настоящему им воспользоваться это… меняет тебя. Когда ты один раз это сделаешь, обратной дороги уже не будет. Ты никогда уже не будешь прежней.
Он медленно повернул голову и посмотрел на неё, внимательно, и очень устало. Арон ждал, что Соня откажется, что ему не придется учить ее убивать. Ведь именно этим они сейчас займутся. Даже если называться это будет самообороной. Пистолет - не игрушка...он причиняет смерть тем, кто наткнется на его пулю.
Клейн протянул руку и взял тяжёлый свёрток.
— Хорошо. Тогда слушай меня внимательно. У нас очень мало времени.