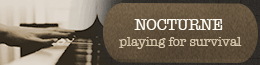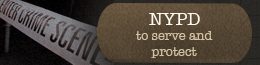На самом последнем балконе публика действительно несколько меняла свой оттенок — как в палитре художника, если случайно задеть мокрую краску соседним мазком. Женщины здесь были одеты скромнее, их шали — не кружевные, а шерстяные, благоразумно прикрывающие плечи; мужчины сидели с выражением лёгкой обиды на судьбу, словно кто-то лично втянул их сюда за лацканы, а теперь ещё требует восхищения с такой высоты, откуда сцена кажется почтовой маркой. Впрочем, некоторые утешали себя видом на зал — грандиозный, позолоченный, с переливами света, которые даже отсюда заставляли чувствовать себя частью чего-то значительного. Группка студентов музыки, собравшихся чуть поодаль, выдавала себя с головой: нервное ерзанье, сжатые колени, а в глазах характерная нервозность, будто кто-то непременно спросит их наутро: что вы поняли из услышанного? В рука одного из них София заметила нотные листы, словно тот собирался записать себе шпаргалку для экзамена прямо во время представления.
Даже без рекомендательных заверений лейтенанта, ей понравилось сидеть так высоко. Весь Метрополитен раскинулся перед ней, очень удобно, когда ей было одинаково интересно и представление, так и поведение публики — настоящей, огромной аудитории, не чета её маленьким концертам в синагоге, в салоне или даже не приёмах или званых вечерах. Сам Метрополитен казался святыней: данью и памятником всему тому, чего заслуживала виртуозная музыка.
— Я никогда не была здесь, — наконец отозвалась София, всё ещё улыбчивая от предвкушения, как дебютантка перед первым взрослым танцем, и мимолётно тронула руку лейтенанта Уиттакера, очень целомудренно, поверх его рукава, — Но мечтала побывать с тех пор, как узнала про это место. Вы делаете для меня один из лучших подарков в моей жизни, лейтенант. Думаю, я никогда этого не забуду.
За её словами не было никаких коварных планов или даже желания потешить женское самолюбие, например, подтвердив мужчине, что столь важный опыт её жизни он предоставил ей первым. София говорила запросто и искренне, уже простив лейтенанту и его строгость в автомобиле, и напоминание о письме только что, она сейчас вообще готова была бы простить ему едва ли не любой полицейский произвол. Отняв руку, снова отвернулась разглядывать зал. Она была ещё даже слишком взволнована, чтобы сесть поудобнее, так и осталась на краешке своего керсла, то и дело чуть наклонялась и тянула шею. Волновалась упустить хоть секунду, скользила взглядом по рассаживающимся зрителям, архитектурным украшениям, необъятной люстре, тяжёлому красному бархату занавеса. Ещё несколько минуту гудели разговоры, шуршали платья, откуда-то из-за спин раздался звонок, потом другой, подгонявший зазевавшихся гостей. Всё для Софии сейчас было диковинно и прикрасно. Можно было подумать, что когда исполинскую люстру наконец погасили, глаза её засветились только ярче.
Гул стал стихать, стихать, а когда послышалась волна аплодисментов, София, едва севшая удобнее, снова наклонилась вперёд — разглядеть фигурку дирижёра далеко внизу. В наступившей тишине родилась увертюра: не началась — именно родилась, как нечто живое. И сразу же София пожалела, что тоже не принесла с собой три стопки нотной бумаги. Наиболее прекрасные моменты она хотела записывать, как шахматист хочет записать наиболее интересную комбинацию. Ни для чего, просто забрать с собой несколько нот в качестве сувенира. Но у неё не было с собой нотной бумаги, приходилось всё запоминать. Музыка поднималась откуда-то снизу, из оркестровой ямы, медленно наполняя зал и меняя собой текстуру воздуха в темноте. По пути вверх, к сводам зала, звук успевал раздышаться, как вино, отстаиваясь и насыщаясь. Софии казалось, что сами стены помогают музыке — отражают её, напитывают. Она почти чувствовала, как эти звуки скользят по позолоте, цепляются за резные карнизы, окутывают её собственные обнажённые плечи. Ей хотелось туда, вниз, к тем, кто творит. Домой.
По сравнению, талант танцоров она могла оценить далеко не так чутко. Балерины отсюда казались даже не куклами, а крошечными бумажными феечками, порхающими где-то там, внутри нарядной шкатулки, которой отсюда выглядела сцена. Она мало касалась бинокля и даже не заглянула в либретто. Наоборот, она вскоре и вовсе прикрыла глаза и в её голове представление смотрелось куда ближе и достовернее, возникавшие образы передавали сюжет не без вольностей, но с интересными и уникальными деталями. Руки она честно пыталась смирно держать на коленях, но пальцы сами тянулись к воображаемому роялю. Не слишком заметно, но София то и дело перебирала ими по воздуху, как по клавишам, вплетая в реальную мелодию ещё одну, которую слышала только она. Словом, это было волнующее переживание. Не сравнить с лучшими пластинками.
Волнующее настолько, что к концу первого акта по щекам Софии текли слёзы. Она не плакала полноценно, то есть, не всхлипывала и не рыдала, но вот мелодия затихла, зал разошёлся аплодисментами, занавес был опущен, люстра снова горела, а София ещё минуту или две не могла шевельнуться, так и сидела с закрытыми глазами, приходя в себя. Очнувшись от всего этого волшебства, как от транса, она выдохнула улыбку, и даже не стала искать платок в сумочке, тронула слёзы прямо так, через шёлковую перчатку, покосилась на лейтенанта и тут же стушевалась, что так расчувствовалась.
— Прошу прощения, — София снова улыбнулась, чтобы её спутник не сомневался в её настроении, — Я в самом деле никогда не слышала такой музыки вживую.
Люди вокруг них вставали, суетились, вернулся гул голосов и шорох одежды. София тоже поднялась, вместе с лейтенантом они пробрались из своего ряда в проход, а в коридоре она снова взяла его под руку и неожиданно доверчиво ткнулась на мгновение виском в его плечо и негромко выдохнула:
— Спасибо вам.