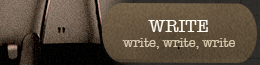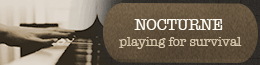Слезы, горячие и чуждые хозяйке дома, падали в ослепительную белизну муки. Рут, застыв, смотрела, как они оставляют маленькие, серые, влажные кратеры. Это было до такой степени... вульгарно, что даже разозлило О'Доннелл. Как не совестно расклеиться, да еще и перед гостьей, перед Дженнингсом? Да что с ней такое происходит. И слёзы закапали пуще прежнего...все то накопленное внутри, что не давало покоя и было заперто рецептурными каплями из аптеки, вырвалось наружу и начало свое коварное буйство.
А потом было прикосновение. Рука Софии на ее плече, поначалу робкая, как крыло мотылька, а затем — объятие. Крепкое, настоящее. Рут замерла, ее тело, не привыкшее к такому простому, незапланированному контакту, напряглось до предела. Прикосновения в ее семье казались всегда больше формальностью, чем необходимостью - холодный, формальный поцелуй Накки, вежливое касание руки на приеме, даже любовь Олливера, в последние годы ставшая скорее нежным, печальным воспоминанием, чем физической реальностью.
Это же объятие было другим. Оно ничего не требовало и ничего не обещало. Оно пахло юностью, мылом и, как ни странно, луком. И что-то в Рут откликнулось. Она позволила себе на мгновение опереться на тонкий стан Сони, и вся ее фигура, до этого державшаяся на невидимом стальном стержне, обмякла. Она уткнулась лицом в плечо девушки, вдыхая этот простой, честный запах, и позволила слезам литься уже не в муку, а в чужую, теплую ткань.
— У вас есть любимое воспоминание о нём?
Любимое... Нет, его не было. Разум, словно злобный шутник, услужливо подсовывал лишь одно воспоминание: стальной стол, запах формалина, разорванный рот. Она судорожно втянула воздух, мотая головой.
Рут видела краем глаза, как Дженнингс нахмурился. Бедный, верный Дженнингс. В его мире женщины в горе элегантно падали в обморок или принимали капли на шелковых подушках. Они не ревели в плечо прислуге и уж точно не выслушивали вопросов, которые вскрывали свежую рану. Он был рыцарем, но его драконами были сквозняки и дурно протертое серебро; перед лицом настоящего, уродливого горя он был беспомощен и напуган, потому что (о Боги, неужели так бывает?) не знал, что ему делать.
София, казалось, не заметила ни его неодобрения, ни ее безмолвного отказа. Ловкие пальцы оттерли липкое тесто с пальцев Рут, накрыли миску полотенцем. А потом в ладонь мисс О'Донеелл легло что-то холодное. Нож. Маленький, для зелени.
Запах свежей зелени ударил в нос прежде, чем она успела поднести к дощечке нож. Аромат лета за городом, запах супа, который готовила ее няня, когда она была ребенком. Запах мира, который существовал до О'Доннеллов, до совершеннолетия, до этого блестящего, холодного мавзолея. Она начала резать. Неумело, пальцы едва слушались. Но она резала. И с каждым движением ножа, с каждым вдохом пряного аромата, что-то твердое внутри начинало крошиться.
Свист чайника прозвучал оглушительно, как сирена парохода в тумане, то ли предупреждая остановиться, то ли распугивая всех монтров, которые собрались в темноте, готовые схватить Рут и затащить в свое небытие.
Горячий, сладкий чай обжег горло. Он не был похож на тот бледный, ароматный напиток, что подавали ей в гостиной к завтраку или перед обедом. Чай, заваренный Соней был крепким, почти грубым, но согревал изнутри, разгоняя лед по венам, не хуже огненного виски.
И вот Рут снова стоит, посыпав стол мукой, и пытается раскатать тесто. Деревянная скалка кажется ей бревном. И вот она уже была императрицей в изгнании, сосланной в свои же владения, неуклюжей, беспомощной, в фартуке поверх парижского платья. Руки болели от непривычного усилия. Тесто рвалось, прилипало, не хотело подчиняться.
А потом она вспомнила.
— Он... Руперт был в Ирландии, — начала Рут, не то хмурясь на воспоминания, не то на тесто, с которым все никак не могла совладать. — Мы приехали с Олливером, сразу после... медового месяца. Его семья... Они были так холодны. Конечно, не удивительно, сын привез чужестранку, и что хуже всего - американку.
Она давила на скалку, и тесто нехотя расползалось.
— Они смотрели на меня, как на... диковинку. Американка. Выскочка. Его мама, миссис Элизабет О'Доннелл говорила со мной так, словно я глухая. А Олли... Олли просто стоял и молчал. Он так их боялся. Своего отца, свою мать, был сам на себя не похож, совсем не тот Олли, который делал глупости тут, - Рут улыбнулась и остановилась раскатывать тесто, нависла над ним, замерла, словно боясь спугнуть воспоминания.
— И вот ужин. Длинный стол, свечи, фамильное серебро. И тишина. Такая, что слышно, как остывает суп. И тут врывается Руперт. — Рут остановилась, глядя сквозь медную кастрюлю, тускло блестевшую на стене. — Он опоздал почти на час и был в сапогах для верховой езды, пах конюшней и виски. Он подошел, поцеловал мать, которая скривилась, как от зубной боли, а потом подошел ко мне.
Она провела ладонью по лбу, оставляя белую полосу.
— Руперт взял мою руку, поклонился так низко, что чуть не упал, и сказал: «Боже мой, брат, а ты говорил, что она просто симпатичная. Она же — чистое золото! Неудивительно, что наши предки смотрят со стен с таким кислым видом. Они просто завидуют».
Рут засмеялась. Это был ужасный, ржавый, лающий звук, которого эта кухня никогда не слышала. Звук, который испугал ее саму.
— Не знаю, как мадам после этого не вышла из-за стола. А Олливер... Олливер впервые за неделю покраснел и улыбнулся. Руперт сел и начал рассказывать какую-то несусветную чушь про то, как его лошадь пыталась соблазнить корову молочника. И весь этот чопорный, мертвый ужин... он просто спас меня. Он был единственным, кто был живым в этом склепе.
Она закончила говорить и поняла, что тесто раскатано. Тонкое, почти прозрачное.
Они сидели рядом, вырезая стаканом круги. Рут и София. Леди и пианистка. Две женщины, склонившиеся над мукой, словно мойры, прядущие нить. Дженнингс, уже смирившийся со своей участью, молча подливал им чай.
Когда София показала, как запечатывать начинку в полумесяц, Рут поначалу не справилась. Ее пальцы были слишком неловкими. Но потом она нашла ритм. Взять круг. Положить начинку. Сложить. И — защипнуть. Плотно, чтобы ничего не вытекло.
Она брала ложку серой, невзрачной начинки, клала ее на бледный кружок теста и запечатывала края. Она запечатывала внутри свое воспоминание. Запах виски и конюшни. Смех, нарушивший мертвую тишину. Голубые глаза, в которых не было льда. Она делала это снова и снова, и каждый полумесяц, падавший на посыпанный мукой поднос, был маленькой, съедобной могилой для ее горя. Это было бессмысленно. Это было нелепо. И это было единственное, что спасало ее прямо сейчас.
Какое-то время они молчали, а потом Рут, словно опомнившись, подняла глаза на Соню.
- Спасибо, - слетело с ее губ.