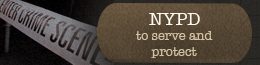Ничего из того, что собирался сделать лейтенант Уиттакер, чтобы расследовать убийство Нэнси Кэрролл, не дало бы результата, который устроил бы их обоих, и его как следователя, и её как обвиняемую. Безразлично изучавшая подраспущенный узел галстука Эми на упоминании такси невольно подняла взгляд, чтобы сразу же перевести его к потолку, словно так и собиралась изначально, и не испытывала по отношению к планам лейтенанта ничего, кроме усталости.
Всё зависело от того, как полиция стала бы задавать вопросы таксистам: искали бы они девушку, что одна приехала в Бронкс, или искали бы они именно Эми Кэрролл, что дважды пользовалась услугами такси этой ночью. В своём ответе Эми стоило быть осторожной, и она отложила это на потом, чтобы сейчас кивнуть лейтенанту, наверняка ожидавшему от неё хоть какой-то реакции: она услышала его намерения, но сказать ему ей по-прежнему нечего.
Отсюда, из тюремной камеры, Эми всё равно не смогла бы помешать расследованию. И она, как ни странно, верила в Джона Уиттакера как служащего полиции — верила в его честность, и не только потому, что когда-то он был другом Чарли, а она доверяла мнению Чарли. Эми предпочитала судить о людях сама, и знала, например, что за Джоном Уиттакером не водилось тяги к красивой жизни — он не был героем сплетен, в которых водил бы светских дамочек и певичек по операм и ночным клубам. За Джоном Уиттакером не стояло и сильного покровителя, иначе его произвели бы в комиссары вскоре после возвращения из Европы. И по всему выходило, что Джон Уиттакер жил своим доходом и своим умом, и делал свою работу сам, так, как считал правильным.
Если он считал необходимым убеждать Эми в том, что они оба на одной стороне, и эта сторона — сторона правосудия, Эми не могла помешать ему и в этом тоже.
Сейчас Джон Уиттакер верил в то, что Эми виновна, даже если на словах уверял её в обратном. Он не забрал бы её в участок, не подверг бы унизительной процедуре снятия отпечатков пальцев, которой никогда не подвергали простых свидетелей, и этот разговор, где он просил бы её поверить ему, состоялся бы ещё там, в её квартире, как только он помог бы ей надеть пальто.
Может быть, он не доверял сержанту Брауну, и в его присутствии вынужден был следовать процедуре — Эми не списывала это предположение со счетов, — но, чем дольше она слушала, тем сильнее крепла в ней вера, что та идиллическая картина, рисуемая перед ней лейтенантом, никогда бы не воплотилась в жизнь, даже если предположить, что он и сам верил своим словам.
Первая костяшка домино упала и потянула за собой остальные: лейтенант привёз Эми Кэрролл и передал её окровавленное пальто криминалистам. Такое было не утаить, как бы ни старался бы лейтенант, и журналисты узнали бы, и газеты запестрели бы заголовками, из которых трудно было бы выбрать самый громкий, например, "Беременная жена Джеймса Кэрролла убита его дочерью" или "Секретарь прокурора обвиняется в убийстве беременной мачехи". Смерть Нэнси отбросила тень сразу на два имени, и после восхода этой тени предстояло расти.
Так что Эми слушала молча, поверх красневшего на вдохе уголька в сигарете вглядываясь в уставшее лицо лейтенанта, и пыталась решить для себя: в самом ли деле лейтенант делал свою работу (а делал он её хорошо), или ему было важно её доверие?
В своих речах лейтенант был убедителен, и веса его словам добавляло желание самой Эми верить ему — сентиментальное, совершенно лишнее желание, выросшее исключительно на её интуитивных и безосновательных симпатиях, с которым было можно и нужно бороться. Но, сказав лейтенанту, что не верит в его участие, Эми не пыталась пригласить его к игре в "Убеди меня" — она хотела избавить их обоих от разговора, который мог стать тяжёлым испытанием для её выдержки и его терпения, потому что всё равно ни к чему не привёл бы. Эми не могла дать лейтенанту ни правды, ни даже убедительной лжи.
Но этот разговор всё равно и всё ещё шёл.
Если бы шеф послушал совета Эми и доверился бы лейтенанту этой ночью, Эми сейчас не сидела бы здесь, и та пастораль, что пытался изобразить на словах лейтенант, стала бы реальностью с первым лучом солнца. Тогда, в момент, когда их преступление ещё не было совершено, это было возможно, но теперь, когда труп Маркуса Дерби плыл по течению Ист-Ривер, Эми уже была соучастницей если ещё не в убийстве, то уже в сокрытии улик.
И всё же, ещё можно было сказать если не правду, то хотя бы половину от правды. Эми смотрела на лейтенанта, предлагавшего ей удобную ложь, для которой достаточно было бы просто признать шефа своим любовником, и с сожалением думала о том, что кровь на её пальто всё же не вписывалась в эту картину. Там, где есть кровь, там должно было быть и тело, и, возможно, ей стоило начать свою защиту с этого.
Затушив давно прогоревшую в пальцах сигарету на дне чашки, Эми тяжело вздохнула и подняла к лейтенанту лицо. Поверить ему не только свою тайну и, наконец, закончить эту ночь, было очень заманчиво: он всегда, как-то сам по себе, располагал к доверию. В нём было что-то основательное, надёжное, что она бессознательно отметила для себя как женщина, ещё когда была в браке, и это никуда не делось даже после войны и работы в полиции. Это располагало вверить свою судьбу в его руки и, если бы речь шла только о ней, Эми, возможно, всё же решилась бы.
— Я не могу предложить Вам объяснений, лейтенант, — у неё так и не получилось, даже из тех же дурацких сентиментальных соображений: шеф закрыл её собой, когда думал, что в них ещё будут стрелять, и Эми никак не могла выкинуть этот факт из головы. Никто и никогда не делал для неё подобного — никто не жертвовал собой ради неё, — и это заслуживало ответной жертвенности.
Эти сантименты тоже можно было оправдать логикой: Джон Уиттакер, как хороший коп, рано или поздно нашёл бы настоящего убийцу — если бы поверил в невиновность Эми и стал бы хотя бы искать другой след, — и обвинения с Эми были бы сняты (потому что Джек мог многое, но не всё, и лучше бы ему было иметь союзников). Взамен ей не предъявили бы обвинения в соучастии в сокрытии улик, или, что хуже, в "настоящем" убийстве. Взамен у её шефа ещё было бы время, чтобы довести дело Ротштейна до конца.
А значит, всё упиралось в веру Джона Уиттакера в невиновность Эми, и это стоило того, чтобы хотя бы попытаться.
— Вы не сможете доказать, что я была в Бронксе этой ночью, — Эми пыталась рассуждать и смотреть в будущее одновременно, как прежде, когда рассказывала лейтенанту о своём отце, и, говоря о такси, подбирала слова особенно осторожно. — Ни один таксист не подтвердит, что возил девушку в том направлении. Я не арендовала машину, не садилась в автобус и не просила никого подвезти меня.
Их поездка с шефом до моста могла бы всплыть по её вине, но, если не всплыло бы тело, никто не связал бы их с преступлением.
— Но, увы, я не смогу доказать того, что меня там не было: у меня нет алиби на эту ночь, лейтенант. Моя соседка скажет Вам, что где-то до трёх часов она была в кино, после чего вернулась домой и, поспав пару часов, отправилась на смену к восьми, и, когда она вернулась, я уже была дома. А значит, что почти сутки мы с ней не виделись, и она не годится ни как свидетель защиты, ни как свидетель обвинения. И, к сожалению, когда я возвращалась домой, я не видела света ни в одном окне, так что соседи мне не помогут тоже.
Пальто, выпачканное в крови, становилось в этом деле ключевой уликой. А группа крови у Нэнси была первой — самой распространённой. И даже если бы группы крови не совпали, Эми всё равно пришлось давать бы объяснения, которых у неё пока ещё не было.
— А что до пальто, — рвано вздохнув, Эми заставила себя усмехнуться:
— Какова вероятность, что, убив Нэнси с такого близкого расстояния и так кроваво, я не ждала бы пятен на своей одежде?
В её читательском билете в библиотеке соседнего квартала были сплошь детективные романы, но и без детективных романов Эми знала, что такое поведение противно логике. Логика, например, помогала понять ей то, что лейтенант не собирался длить разговор слишком долго, если она будет молчать — по одному он забирал предметы, которыми она ещё могла воспользоваться.
Но у неё не было ничего, кроме логики — ни алиби, ни убедительных объяснений.
— Вы в самом деле думаете, я не проверила бы и не попыталась бы вывести их, или хотя бы спрятать это пальто до весны?
Пусть так поступали все убийцы в этих романах, оставлять пальто в том же виде и не придумать хотя бы убедительной лжи было бы ещё большей глупостью. Эми нравилось считать, что она никогда не была дурой.
— Представьте на минуту, что я в самом деле хотела бы убить Нэнси (Вы немного знаете меня, так что это будет не так сложно). Неужели я бы сделала это так? И даже не позаботилась бы об алиби заранее?
Выманивать Нэнси в Бронкс, чтобы убить её своими руками? Эми скорее предпочла бы малые дозы сердечных капель отца.
Для любого, кто знал Эми, это преступление не склеилось бы. Мозаику можно было бы собрать как угодно, но у пазлов, к которым часто относили убийство, всегда был только один вариант раскладки. И, если картинка не складывалась, это могло значить лишь одно — в сборке допустили ошибку.
— Пусть я не могу дать Вам объяснений, лейтенант. Пусть меня нет алиби, но есть и возможность, и мотив. Я верю в Вас как полицейского и верю в то, что я действительно смогу выйти отсюда. Когда Вы найдёте настоящего убийцу.