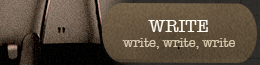Мы все, вероятно, хоть в чём-то, хоть иногда любим друг друга неправильно и "кормим не тем". Но не все восстаём против дурной кормёжки. Иногда нам велят довольствоваться тем что есть или мы даже не можем представить себе, что бывает иначе, что любовь может насыщать нас ровно так, как нам нужно. Только Ванесса не могла терпеть, не могла не восстать. И если бы она знала, что её сестре Рут её собственная ноша давалась ничуть не легче, она бы и её подговаривала на бунт. То есть, если бы она ещё раньше смогла бы всё так понять, как поняла сегодня, во время одного трудного, но необходимого разговора.
В самом деле, любовь может быть такой. Неправильной. Неудовлитворительной, сколь бы искренней и обильной та ни была.
Их отец, например, тоже любил, как умел — делал это, напоминая женщинам про их подчинённую позицию в мужском мире, требуя строго определённой линии поведения и определённой версии женственности, именно той, которую он сам считал единственно-правильной. Нельзя было сказать, что мистер Бахтэль был тираном и деспотом в семье, или не проявлял внимания, или в чём-то отказывал своим девочкам. Но Ванесса знала, как она расстраивает и раздражает его своим характером, своим мышлением, даже своим внешним видом. Потому что они любили друг друга не так, как им это было нужно. Матушка тоже любила их, как умела — считая удачный брак верхом развития женской личности и судьбы. Братья в детстве тоже норовили отставить маленьких девочек к их кукольному домику или садовому чаепитию в обществе плюшевых медведей и прочих бантиков.
Ванесса не терпела этой несправедливости, неудовлетворённости, только маленьким ребёнком она не умела умудрённо, спокойно и взвешенно донести эту мысль до старших, до сестры, до всего остального мира. Объяснить, что именно из происходящего и почему было так мучительно, почему эта вседозволенность была вовсе не той роскошью, которой ей хотелось. А тем более вызвать близких ей людей на такой разговор, где все могли бы очень рассудительно и понятно рассказать, как неправильно их любят, а главное — потом сделать с этим что-нибудь. Как-то всё исправить, любить друг друга так, что никому не пришлось бороться с какими-то тварями внутри, которые подзуживали сломать и без того зыбкий мир.
"Я не ребёнок!" — единственное, что она могла твердить, лет с восьми, когда на самом деле подразумевала "Не обращайтесь со мной, как с меньшим существом." Может, в этом отчаянии и были придуманы все эти выходки, как тот побег из дома. "Я не ребёнок. Я мерзкий маленький бес, чёртик из табакерки, так сколько гадостей мне нужно сделать, чтобы вы все восприняли меня всерьёз, увидели, какая голодная, несмотря на несчитанные серебряные ложки во рту?"
Да, в самом деле. И Рут, наверное, любили неправильно. Взвалили на неё ношу совершенства. Только она всё терпела и принимала как должное, и соответствовала, и довольствовалась, не жаловалась, и носила эту корону и ни разу не дала заметить её тяжесть. Но это же вздор. Так можно смириться и с настоящим унижением или даже насилием, если на него будет нанесён какой-то глянец любви. Статьи в журналах так и писали, что это всегда задача женщины, трудиться во имя того, чтобы будущий муж не поднимал руку и не ругал. Может, тот мелкий, мерзкий бес и завёлся в Ванессе для того, чтобы защищать её, маленькую, от того, что было ей невыносимо.
И кто знает, во что этот мелкий бес вырос вместе с ней, и от чего он пытался её защитить на Рождество, и пытался ли. Или просто разожрался, опьянел, обзавидовался, испугался горя потери любимого человека. Может, когда Рут говорила об Олливере, Ванесса представила смерть Чарльза и что-то внутри неё захотело защищаться от самой смерти. Впрочем, смысла гадать не было. Ванесса не собиралась больше слушать эту тварь.
Она всё ещё пыталась задавить слёзы. Не слишком успешно, одна или две скатились по щекам прямо в чашку, но Ванесса не хотела сейчас рыдать. И она только отрывисто кивнула на слова Рут. Не ждала, что та простит её — сегодня или когда-нибудь. Но она не уходила, не гнала её, и тоже не хотела её терять. Это уже было больше, чем Ванесса заслуживала, и что-то внутри даже протестовало, будто ей снова сошёл с рук проступок, который не должен был сходить. Ей пришлось себе напомнить, что не сошёл.
Покосившись на Рут, заметив, что она взяла коробку, Ванесса собралась с мыслями и кашлянула, чтобы голос отвердел.
— Это было не под ёлкой, — она запнулась, подбирая слова и придумывая, откуда начать, — Помнишь, ты мне летом советовала этого нового модного автора, Элиаса Уолша? Говорила, что ты хотела бы с ним познакомиться, но он живёт в Калифорнии.
Ванесса взглянула на сестру, чтобы в её лице прочитать подтверждение, что она помнила тот разговор.
— Так вот, живёт он в Калифорнии, но зимой приехал в Нью-Йорк. Его мать живёт здесь и она угодила к Чарльзу в госпиталь, прямо под Рождество. Так что он навещал её, а я... Мы тогда в Сочельник тоже уехали.
Объснение подарка тоже было мучительным, потому что само его появление стало возможно только из-за ссоры, из-за того, что планы были нарушены. Изначально, сёстры должны были задержаться в доме родителей на пару дней, но из-за Ванессы всё развалилось в Сочельник.
— Раз уж... Я всё тогда испортила... Чарльз утром собрался в госпиталь, я похала с ним. Ну, организовать что-нибудь для пациентов, кому не посчастливилось праздновать в койках.
На праздники всегда не хватает рабочих рук. Часть персонала стараются отпустить на главный день в году, и при этом следует не оставить пациентов без должного праздничного внимания, но Рождество в больнице редко бывает слишком весёлым. Ванесса не стала делиться, как она обходила палаты с поздравлениями, помогла раздать открытки и подарочные свёртки, которые пришли в больницу от родственников, подпевала гимнам. Это прозвучало бы, будто она так пыталась выслужить себе прощение, только неизвестно кого. Рут или мужа или самой себя. Чарльз не возражал, что она тогда увязалась за ним, но так и не говорил с ней до самого вечера, когда они вернулись домой и изображали семейную идиллию по большей части ради дочерей.
Всё это Ванесса оставила при себе и только подытожила:
— Словом, там был мистер Уолш, навещал свою мать. С ней всё в порядке, все были в хорошем настроении... И я попросила его подписать для тебя книгу.
Мистер Элиас Уолш, трепетно относившийся к своей матери и обрадованный успешной операцией и положительными прогнозами, на радостях написал для Рут несколько строк, пригласил написать ему, когда ей будет угодно, и даже прибавил: "Будете у нас в Калифорнии, непременно заходите." На самом деле, Ванесса опасалась, как будет воспринят такой подарок, который стал возможен только из-за её низости. Который, быть может, будет лишний раз напоминать о ней. Но о ней напоминал бы любой подарок, даже те, что лежали под ёлкой в день ссоры и которые Бахтэли потом прислали по домам дочерей.