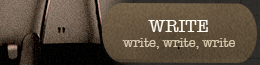♫ Lorien Testard — Lumière - Lumière à l’Aube
Сквозь высокие окна льется золотой свет. Тонкие занавеси колышутся от ветра с Гудзона. Марта просыпается раньше всех: ее утро начинается не с завтрака, а с ритуала. Ванесса еще спит в своей детской, и дом кажется кукольным — слишком тихим. Марта надевает шелковый пеньюар, садится за туалетный столик и видит в нем женщину, которая больше не может обмануть саму себя. Каждое движение щеткой по волосам — не уход за собой, а подготовка к бою. Духи пахнут слишком сладко, почти приторно как ложь. Макияж скромен, но безупречен: идеальная миссис Ротштейн должна быть готова к миру еще до того, как мир заглянет в ее окна.
С утра она выбирала платье не по цвету, а по настроению: сегодня — глубокий изумруд, чтобы скрыть тени под глазами. Волосы убраны идеально, жемчужная нить на шее — защита, маска, щит.
Перед зеркалом Марта задержалась дольше, чем обычно. Она знала: сегодня состоится разговор с Рут. Сегодня ей придется вынуть из себя правду, как занозу. Сказать вслух то, что все это время грызло ее изнутри. А внизу уже подают кофе и булочки. На столе ждет свежий номер The New York Times.
Утро в доме Ротштейнов было как всегда безупречно отрепетированным спектаклем: серебро блестело на столе, кофе источал ровный аромат, в газетах мелькали заголовки о фондовом рынке и новом джазовом клубе на Гарлемской авеню. Только хозяйка дома, сидевшая у окна, уже не принадлежала этому уютному антуражу.
Месяц до этого момента растянулся, как вечность. Каждый день Марта просыпалась в том же доме, среди шелковых портьер и фарфоровых чашек, и каждый день — знала: за этими стенами ее жизнь уже не принадлежит ей.
Она играла свою роль безупречно: улыбалась слугам, поднимала бокал за здоровье гостей, поправляла локоны Ванессы, когда та учила гаммы. Но под шелковой тканью платьев сердце билось так, будто его заперли в золотую клетку и бросили ключ.
Николай возвращался поздно. Его запах — табак и чужие духи — оставался в коридоре дольше, чем он сам. Марта больше не искала его взгляда. Она уже знала, что он принадлежит другой.
Вечерами, когда город гудел джазом и в окна доносился звук машин, она сидела в своем саду среди орхидей. Курила медленно, сквозь мундштук, и смотрела, как дым клубится над цветами. Дым резал глаза, но она не моргала. Это была ее единственная слабость, которую никто не видел.
И вот однажды утром на серебряном подносе слуга принес письмо из Чикаго. Почерк матери — строгий, угловатый, знакомый до боли. Марта дрожащими пальцами вскрыла конверт. Несколько строчек. Никаких нежных слов, только приговор:
«Ты жена. Ты мать. Терпи. Мужчины всегда смотрят в сторону. Б-г дал тебе дом и хлеб. Береги то, что имеешь. Остальное — суета.»
Марта перечитала письмо трижды. В первый раз — со слезами, во второй — с гневом, в третий — с холодным спокойствием. Она сложила его и убрала в ящик комода, рядом с детскими лентами Ванессы. С тех пор слова матери звенели в голове, как заезженная пластинка: «Терпи. Терпи. Терпи.»
И каждый новый день, когда Марта надевала жемчуг и шелк, когда садилась за стол с мужем, когда молча смотрела на орхидеи в своем саду, она чувствовала: ее терпение — тоньше стекла, и достаточно одного неверного движения, чтобы оно раскололось на осколки.
Марта перелистывает газету ленивыми пальцами: модные заметки, политика, светская хроника. На мгновение задерживается взгляд на колонке про новую премьеру на Бродвее. Когда-то она мечтала туда ходить каждую неделю. Теперь — редко. Ее пальцы застывают на странице, где рекламируют ювелирный дом. Реклама кулонов. Марта отводит взгляд, будто эти страницы обожгли ее.
Она держала чашку так, будто в ней не кофе, а яд. В груди — тяжесть, которую никакой шелк не мог скрыть. Прошел почти месяц с того вечера, когда она увидела чужие пальцы на своем кулоне, и с тех пор каждый день был словно фотография, выцветающая под ярким светом.
Она жила в ритме джаза города, который шумел за окнами, но ее собственная мелодия была иной — резкой, ломкой, диссонансной. Ее терзала двойная боль: обида на мужа, что предал, и обида на подругу, что невольно привела в ее дом соперницу. Рут — та самая, с которой они когда-то смеялись над нелепыми новостями в Times, та, с кем делились рецептами и слухами. Сегодня Рут должна будет услышать не смех, а признание.
Марта поднялась, поправила длинные перчатки и окинула взглядом дом. Ванесса сидела за роялем, теребя клавиши. Девочка ничего не знала, и Марта собиралась сделать все, чтобы она не узнала.
В гостиной пахло свежесрезанными лилиями. На каминной полке тикали часы — их ритм казался Марте невыносимым. Она стояла у окна, в руках тонкий конверт с материнским почерком. Бумага за месяц немного помялась на сгибах — видно было, что письмо перечитывали снова и снова.
Марта медленно развернула его, хотя знала каждое слово наизусть. Строчки смотрели на нее холодно, как глаза строгой учительницы:
«Ты жена. Ты мать. Терпи.»
Ее пальцы чуть дрожали. Сколько раз за эти недели она представляла, как делится письмом с Рут. Как покажет ей эти слова — и та ахнет, скажет: «Нет, Марта, ты не обязана так жить!» Но в глубине души Марта знала: если она покажет письмо, то признает вслух то, что пока прячет даже от самой себя.
Стук посуды в соседней комнате напоминал о том, что времени остается все меньше: скоро приедет такси. Скоро придется говорить.
Марта подошла к камину. Конверт в ее руках был легким, но будто тянул вниз, как гиря. Она коснулась письмом пламени свечи. Бумага едва не вспыхнула — но в последний момент Марта резко отдернула руку. Нет. Пока не время.
Она сложила письмо и убрала его в карман своего изумрудного платья. Пусть оно будет при ней. Как напоминание о том, чего от нее ждут. И как напоминание о том, что, может быть, однажды она все-таки выберет не терпеть.
Стук каблуков по мраморному полу звучал как марш. За дверью ждал автомобиль, который отвезет ее к Рут. Нью-Йорк жил своей бешеной жизнью — джаз, виски, сплетни, сделки. Но в сердце Марты сегодня было только одно: разговор.
Она не знала, что скажет первой. Не знала, выдержит ли. Но знала точно: после этого дня она уже не сможет быть той самой «идеальной миссис Ротштейн».
— Ванесса, милая, нам пора!